Непреображающая вера – норма советской религиозности?
Как можно одновременно считать себя христианином и гнать христиан? Что должно произойти с человеком, чтобы он начал воспринимать такое положение вещей как норму? Размышляет протоиерей Игорь Прекуп.
Религиозная жизнь советского периода еще ждет своих исследователей. Множество трудов написано по истории советского государства, немало исторических исследований за последние двадцать лет было посвящено положению религии в ту эпоху. Но ведь религиозная жизнь представляет научный интерес не только и даже не столько в историческом аспекте, сколько в этнопсихологическом. А тут о-о-о… целина непаханая!
Довелось недавно посидеть на одном дне рождения. За столом собрались представители трех поколений. Разговор плавно перешел в русло «эх, были люди в наше время» с достаточно шаблонными сетованиями, сопровождающимися вешанием собак на «демократов» и ностальгированием по былому державному могуществу да устойчивости «облико морале» советского человека.
Затронули тему геноцида, в связи с которой я предложил информацию к размышлению о большевистском эксперименте по выведению в отдельно взятой стране нового человека — «человека советского» (homo soveticus) и, соответственно, новой общности — советского народа, а также о развернутом с этой целью избирательном геноциде народов Российской империи; русского, в первую очередь, как государствообразующего.
Избирательный геноцид, прошу прощения за дерзкую попытку введения в обиход нового понятия, заключается в целенаправленном выскабливании нутра нации путем физического уничтожения или социально-политической сегрегации основных носителей ценностей национальной культуры. Приоритетной мишенью этой зачистки «социально чуждых элементов» была Русская православная церковь. Опять же, как следует из печально знаменитого письма «самого человечного человека» членам Политбюро от 19 марта 1922 года, на заклание отбирались лучшие представители духовенства и мирян.
Примечательно, что люди-то на вышеупомянутом дне рождения хорошие собрались, разумные, с которыми приятно общаться. И вот представитель старшего поколения выдает до боли знакомое:
— Не было прямо такого уж катастрофичного ущерба, ничего, по сути, не менялось. Неверующих-то почти что и не было. Народ все равно оставался верующим, и коммунисты тоже были верующими. Ходили на партсобрания, выступали, а сами, если какая беда, молились Богу. И оставались коммунистами, одно другому не мешало. Вспомните, даже в советских фильмах про войну офицер что говорит перед боем? — «С Богом!» Так что ничего, по сути, не изменилось, народ оставался таким же верующим. Да, вначале, после революции были у власти те, кто пытался вытравить из народа его суть, но Сталин их скрутил и вернул всё на круги своя.
Вот сколько слышу подобные речи, состоящие сплошь из штампов постсоветской мифологии, а всё не перестаю удивляться. Какую-то растерянность чувствуешь, когда рассуждение вроде бы вменяемого, вроде бы незлого человека является банальной апологией расчеловечивания. И почему-то не сразу доходит: ведь собеседник сейчас искренне и непроизвольно демонстрирует небезуспешность вышеупомянутого эксперимента по выведению «нового человека», для мышления которого характерна какая-то ущербная стройность.
Кстати, эта же ущербная стройность (или стройная ущербность?) характерна для любой ереси: в силу своей частичной выделенности из невместимого разумом целостного истинного представления и доступная благодаря этой непротиворечивой ограниченности объятиям рассудка, ересь оказывается приемлемой для обыденного сознания, ибо создает иллюзию понятности из-за внешней стройности, из-за кажущегося соответствия мнимому здравому смыслу.
Вспоминается хрестоматийный эпизод эпохи застоя. Находясь в Киеве в качестве делегата всесоюзной партийной конференции работников печати, жена моего дяди гуляла по городу и зашла, руководствуясь самыми невинными с точки зрения партийной дисциплины соображениями, во Владимирский собор. Ее партийная совесть не чувствовала ни малейшего дискомфорта во время созерцания этого памятника культуры, словно по какому-то недоразумению служившего еще и «рассадником мракобесия» в силу регулярно совершавшихся в нем богослужений. Впрочем, не чувствовала, пока ее взгляд, скользивший по молящемуся народу, не зацепился за одного мужчину, стоявшего на коленях и молившегося с каким-то особым рвением. Она не поверила своим глазам: это был ее коллега из Молдавии, член партии, глава одного из органов печати.
Будучи женщиной хорошо воспитанной, она не стала прерывать процесса удовлетворения религиозных нужд своего коллеги по «четвертой власти» и товарища по партии. Выйдя из храма, она стала его поджидать на паперти. Вскоре вышел и он. Увидев ее, побледнел (вероятно, вся жизнь пролетела перед глазами: спалился!).
Тетя с искренним интересом начала его расспрашивать, как он умудряется совмещать членство в партии, работу в печати — идеологическом авангарде страны — с религией. Дело давнее, в точности не помню, что он ей ответил. Но одно врезалось в память. Когда в заключение беседы она спросила: «Скажи, а если бы на твоего подчиненного донесли, что видели его так же, как я тебя только что, в храме молящимся, что бы ты сделал?» — он, не задумываясь, ответил: «Уволил бы сразу».
У его собеседницы, что называется, челюсть отвисла: нет, ее удивило не столько лицемерие (она в партию вступила в 18 лет, комсорг, парторг, работала на руководящих должностях, как говорится, насмотрелась), сколько принятие им лицемерия как нормы, да еще с такой амплитудой: совмещение религиозности и богоборчества, слезная, искренняя молитва и одновременно готовность «по должности» притеснять братьев и сестер во Христе, и это всё как что-то само собой разумеющееся. А как же, дескать, по-другому, а?
Другой пример. Как-то один таксист разговорился со мной о своем гэбистском прошлом. Много интересного вспомнил о «заботе», которую «контора» проявляла по отношению к Русской православной церкви. Но не это было самым интересным. Вспомнил он, как один из офицеров то ли венчался, то ли крестил своего ребенка, и по этому факту состоялся суд чести. Не помню уж, как его наказали, неважно, как положено, так и наказали общим решением. Важно другое. Думаете, таксист-экс-гэбист раскаивался, ему было стыдно за соучастие в этой истории, переживал, да? Коллегу ему, конечно, по-человечески было жалко (не повезло парню), но стыдно ему не было. Некрасивую историю он подытожил словами, которые меня повергли в ступор: «Но мы все тогда были верующими!»
Это можно было бы произнести со стыдом в голосе, в смысле: мы верили в существование Бога, но, по малодушию, скрывали это и поступали вопреки вере. Нет, напротив! В том, что они «были верующими», он видел оправдание, а не укор (!) себе и своим коллегам. Как если бы сказал, что были, мол, в то время вообще убежденные атеисты, ненавистники религии, как того и требовала господствующая идеология, а мы, офицеры Госбезопасности, были не такие, мы верили, что Бог есть, ну, а жизнь — это жизнь, ничего не поделаешь, служба есть служба — присяга, дисциплина, но мы-то хотя бы верили…
Он так уверенно оправдывал себя отягчающим обстоятельством, что было ясно: тут бессмысленно что-то объяснять. У него просто другой взгляд. Взгляд, искалеченный нормативным лицемерием. Вроде как и не слепота, а чего-то в упор человек не видит, и общая картина из-за этого меняется в корне, и голос совести успешно глушится абсурднейшими аргументами.
«Верующий». Слово-то какое… Кто что под этим понимает: одни так называют лишь регулярно «практикующих», другие — всех, кто хотя бы не отрицает бытие «чего-то там». Для кого-то верить — значит жить по вере, а для кого-то достаточно время от времени «в минуту трудную» между просмотром гороскопа и визитом к знахарке взывать к Богу о помощи, и он уже при случае называет себя «глубоко верующим».

В советское время на фоне официального атеизма, отрицавшего реальное существование чего-либо, кроме материи как «объективной реальности, данной нам в ощущении», верующим считался всякий, кто позволял себе дерзость усомниться в господствующей доктрине и допустить, что, кроме материи, есть еще и другая реальность. И таких «верующих» в самом деле было довольно много. А уж если человек еще и березу на Троицу ломал, да куличи святил на Пасху, да еще и за святой водой в очереди стоял на Крещение — это уже был глубоко религиозный человек, потому что он принимал участие в «отправлении культа».
Этот, по сути, советский критерий религиозности был прочно усвоен в том числе и в церковной среде. В Церкви человек или вне Ее — определялось не тем, насколько он верен Богу словом, делом, помышлением, но фактом участия в религиозных действиях (даже если это участие свелось один раз в жизни к тому, что его принесли, распеленали, окрестили, спеленали… ну и только его и видели, пока вновь не внесли, крышку открыли, отпели, земелькой посыпали, закрыли, унесли). Тут и Сталин верующий, потому что «духовные школы открыл», и Брежнев (храм посетил как-то, а его жена записки подала).
В итоге из критериев православной религиозности в массовом сознании почти исчез «преображенский» компонент. Преображается верой человек или нет — это как бы его частное дело, и прямого отношения к религиозной жизни как таковой словно и не имеет.
Вот маслица-земельки-сухарики-чугунки-платочки-тапочки — это да, признак «воцерковленности», а покаяние (μετανοια), «перемена ума» (μετανοεω значит «переменять свой образ мыслей», изменять видение, понимание смысла жизни и ее ценностей) — кто ж видел ум человека, кто зафиксировал, есть в нем перемены или нет? «Плоды покаяния» (Мф. 3:8)? Ах, оставьте это… не всем же быть святыми! Мы — люди простые, без претензий, нам и так сойдет. Ведь сказано, что «кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк. 16:16), так? Вот мы верим (ведь просим Бога о здоровье, благополучии, успешности, пользуемся «материальными носителями божественной энергии»), и мы крестились (или нас крестили, какая разница?), значит, спасены. Чего нам еще?
Такой вот стереотип сознания сформировался и распространился в нашей церковной и околоцерковной среде. И произошло это не без попустительства тех, кто Богом поставлен проповедовать покаяние, т. е. не одно лишь сокрушение о грехах в смысле сожаления о содеянном, а сокрушение самого греховного начала в себе (чем и является, в сущности, «сокрушение сердечное»), изменение по образу и подобию Создавшего, или, что по сути то же самое, внутреннее преображение личности.
Попустительство же это обусловлено… «удобством». Я впервые в Эстонии услышал, что человека, избегающего нагрузок, житейских сложностей, обязательств, заботы о ком-то, ответственности, называют «удобным». Не в том смысле, что он удобен кому-то (хотя такие люди, как правило, друг другу удобны, потому как не лезут в чужие дела), а в том, что удобство для него — цель и принцип жизни.
Владимир Семеныч когда-то пел, что «удобную религию придумали индусы». Наши апологеты «мистико-ритуального» направления от них несильно отстали в приспособлении православия под массового потребителя. Их вера — это «культ», к нему всё сводится. Культ, но никак не преображающая религия; для них преображение личности — необязательный элемент, несущественный («человек не меняется»). Главное — верить в существование Бога и правильно в ритуальном отношении пользоваться Им, удовлетворяя свои религиозные нужды в рамках, очерченных государством или сообществом, частью которого они являются, жестко пресекая чей-либо выход за указанные пределы.
Эта позиция — не какая-нибудь безобидная глупость. Она не просто невежественна, она — богохульна и антигуманна, если хотите, потому что в сущности своей — отрицание неизгладимости образа Божия в человеке и пренебрежение его способностью к богоуподоблению, благодаря которой и происходит личностное преображение. Ибо если Преображение Господне — это «приоткрытие» ученикам сияния Божественной природы Спасителя, то преображение человека — воссоздание в нем богоподобной природы жизнью по вере.
Славя Преображение Господне, мы порой словно забываем одну существенную деталь этого события. Отец заключает свидетельство о Сыне словами: «Его слушайте» (Мф. 17:5; Мк. 9:7; Лк. 9:35). А ведь вся проповедь Спасителя — о преображении человека по образу Отца Небесного на примере Единородного Сына; это проповедь Сына об усыновлении Отцу всех, кто не только крестится, но самоотверженно берет свой крест и следует за Ним (Мк. 8:34), не только крестится во Христа, но и «облекается» в Него (Гал. 3:27).
«Слушайте же, что Он будет внушать и заповедовать вам. И если пойдете путем Его, то несомненно вступите в область света, который будет обнимать вас не извне, а исходить изнутри… Вас преисполнит свет отрады, свет благонастроения, свет ведения; все печали пройдут мимо, нестроения страстей исчезнут, ложь и заблуждения рассеются. Станете на земле небесными, из земнородных — богородными, из бренных — вечноблаженными» (свт. Феофан Затворник).
Протоиерей Игорь Прекуп















 «Хочешь знать тайну беззакония? Не любите, да не любимы будете…»
«Хочешь знать тайну беззакония? Не любите, да не любимы будете…»
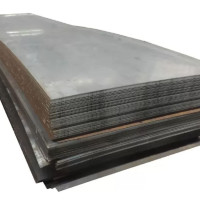 Горячекатаная сталь — один из базовых видов металлического проката, который получают методом горячей прокатки заготовок из стали. Этот материал широко используется в строительстве, машиностроении, изготовлении металлоконструкций и производстве оборудования. Несмотря на простоту названия, за ним скрывается сложная инженерная дисциплина с важными нюансами, которые влияют на эксплуатационные характеристик
Горячекатаная сталь — один из базовых видов металлического проката, который получают методом горячей прокатки заготовок из стали. Этот материал широко используется в строительстве, машиностроении, изготовлении металлоконструкций и производстве оборудования. Несмотря на простоту названия, за ним скрывается сложная инженерная дисциплина с важными нюансами, которые влияют на эксплуатационные характеристик
 Ученые случайно обнаружили необычное поведение растения под названием церопегия Сандерсона: оказалось, что цветок умеет привлекать в свою ловушку мушек-нахлебников, источая запах умирающих пчел, который привлекает этих насекомых. Подробнее о схеме такого хитрого обмана читайте далее.
Ученые случайно обнаружили необычное поведение растения под названием церопегия Сандерсона: оказалось, что цветок умеет привлекать в свою ловушку мушек-нахлебников, источая запах умирающих пчел, который привлекает этих насекомых. Подробнее о схеме такого хитрого обмана читайте далее.



